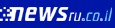Андрей Лошак: "Сейчас говорить о прекрасной России будущего неуместно". Интервью
4 июня Алексею Навальному могло бы исполниться 48 лет. Но политик погиб в российской колонии. "Они убили надежду", – говорит режиссер-документалист Андрей Лошак, в прошлом известный российский тележурналист, приехавший в Израиль представлять свой фильм о соратниках Навального "Возраст несогласия. 2024".
"Возраст несогласия. 2024" – это сиквел картины "Возраст несогласия", которую Андрей выпустил шесть лет назад. Первый фильм был о молодых активистах, сторонниках Навального. Андрей разбирался, как устроены штабы политика в России, всматривался в лица его последователей. Сейчас, спустя шесть лет, герои первой картины разбросаны по миру. Они с трудом справляются с крахом своих надежд и с еще большим трудом адаптируются к жизни в чужой стране. Как и автор фильма. О том, как гибель Алексея Навального стала крахом надежд целого поколения и как ему с этим жить, Андрей Лошак рассказал в интервью Newsru.co.il.
Беседовала Алина Ребель.
Андрей, я была в выходные на концерте группы ДДТ в Тель-Авиве, а теперь ты привез свой фильм о молодых сторонниках Навального в Израиль. Для меня эти два события внутренне связаны – Шевчук со сцены говорил все время о России, ты привез очень болезненное свидетельство краха российских надежд. Зал был полон и на твоем показе, и на концерте. Но как ты себя ощущаешь, показывая этот фильм в Израиле? Как ты себе объясняешь – зачем?
Скажу честно, у меня не было специальной цели привезти фильм в Израиль. Этот показ организовали мои друзья, которые здесь живут, и которые тоже были активными сторонниками Навального. Это ребята из мира моды. В России они делали мерч для Навального, принты всякие придумывали. Нас всех раскидало, конечно, по миру. Они оказались в Израиле, и организовали показ вместе с музеем АНУ. А я просто с радостью согласился на это предложение. Меня удивило, что, во-первых, все билеты были проданы, а во-вторых, пришли очень подготовленные люди. Было много "навальнистов" – я так называю людей, которые действительно верили в Алексея, не просто следили за его деятельностью с любопытством, а участвовали, верили в то, что он говорил, в его идеи, в его мечты о прекрасной России будущего. И, конечно, для них, для нас всех убийство Алексея – это просто огромнейшая личная трагедия. Здесь такие ребята есть, и их немало, и более того, оказывается, здесь открылся штаб Навального после убийства. Их было, наверное, человек десять. В целом в Израиле, к моему удивлению, много публики, которая следит за российской повесткой, и для которой Навальный тоже был значимой фигурой. Я подозреваю, что, наверное, это люди, которые переехали после начала полномасштабной войны в Украине. Но в зале были, мне кажется, и люди, которые здесь давно. Конечно, я сомневался насчет этого показа. У вас своего ужаса достаточно. И, конечно, очень трудно вместить в себя столько ужасов сразу. Человек так устроен, что он концентрируется на том ужасе, который ближе. Это естественно. Но, оказывается, есть люди, которые еще и за нашим ужасом следят. Их хватает и на то, и на другое.
Ты показывал этот фильм в Европе? Интересно это европейскому зрителю?
Мне сложно сказать, потому что мои фильмы нацелены не на то, чтобы ездить с показами, а на то, чтобы их посмотрело максимально большое количество людей. И поэтому сегодня фильм "Возраст несогласия. 2024" выложен в YouTube на канале "Настоящее время". Это, впрочем, не отменяет каких-то публичных показов с дискуссией и в будущем. Но в целом этот фильм сделан не для показов в зале, а для того, чтобы попытаться дотянуться до максимально широкой аудитории. Это то, что мне всегда было интересно. Мне не очень интересно делать фестивальные фильмы и показывать их какой-то избранной публике.
Почему? Ведь избранная публика способствует продвижению фильма и дает тебе лично в будущем возможности получать какие-то новые проекты.
С точки зрения выстраивания карьеры в мире документального кино я, наверное, действую не очень правильно. И я думаю, что в какой-то момент мне придется, конечно, пересматривать мое отношение. Наверное, у меня такое отношение, потому что я прежде всего журналист, а не документалист. Мне всегда было важно получить максимально широкую аудиторию, как говорится, spread the message. Это какое-то ложное ощущение, что ты можешь на что-то повлиять и как-то изменить людей. Оно появилось тоже, я думаю, не случайно. Я много лет работал на НТВ в прайм-тайм. Мы с Леонидом Парфеновым тогда делали "Намедни", у нас были огромнейшие охваты. Потом я работал в программе "Профессия – репортер", и чувствовал этот фидбэк. Ко мне приходили люди и говорили, что что-то меняли в своей жизни после моих репортажей. Это правда было. И это было круто. Сейчас, конечно, мне далеко до этого охвата, и он, наоборот, все меньше и меньше становится. Но я по-прежнему веду в голове диалог с аудиторией в России и кого-то пытаюсь переубедить. У меня такой невидимый оппонент в голове, я с ним все время спорю, я все время пытаюсь доказать: чувак, ты неправ, ты веришь в какую-то херню, проснись, открой глаза, выйди из этого состояния измененного сознания, в которое тебя погрузили негодяи. Но я понимаю, что это уже довольно нелепые какие-то притязания, потому что все те, кто по ту сторону, живут в своем пузыре, и в этот пузырь, к сожалению, из моего пузыря прорваться практически невозможно. И, к сожалению, наверное, наши пузыри будут все больше и больше отдаляться друг от друга. Поэтому я сейчас сам на распутье, не знаю, куда двигаться дальше в этом плане, не в том, о чем снимать, а в том, на какую аудиторию, для кого я вообще все это делаю, для чего.
Звучит безнадежно.
Я об этом говорил недавно в интервью Мише Козыреву, и под ним стали появляться комментарии от людей из России, которые писали, что им очень важно, чтобы с ними кто-то продолжал говорить. В России есть люди, которым это действительно нужно, и очень-очень важно, что у меня есть возможность что-то для них делать. Я думаю, что все-таки надо до последнего пытаться общаться с этой аудиторией, как-то их поддерживать. Пусть я никого там не смогу уже переубедить, но зато я смогу поддержать тех, кому еще важно меня слышать. Им там внутри намного сложнее.
С одной стороны, да. С другой, твой фильм получился очень грустным. Твои герои – активисты Навального – уехали из России и переживают тяжелейший кризис крушения надежд. Получается, что ты передаешь очень горький и страшный месседж?
Мне сложно сказать, какой месседж, не то чтобы он был у меня очень четко сформулирован. Я просто понимал, что в их истории появилась драматургия, потому что за шесть лет все было разрушено жесточайшим образом, а Навального швырнули в тюрьму. Когда я начал снимать, ему увеличили срок до каких-то астрономических девятнадцати лет, все его ребята или в эмиграции, или в тюрьме, или сидят в России запуганные, забились в норы. Я понимал, что это история про то, чем я все эти годы тоже болел, за что болел и чем жил. Алексей нам всем рассказывал и внушал, что прекрасная Россия будущего достижима, просто мы должны в нее верить и что-то для этого делать. И он всегда предлагал варианты, что нужно делать. С этой мечтой многие жили, это звучало как мечта, но это классно, когда у тебя есть мечта. Мне казалось важным показать, что случилось с этой мечтой, как изменилась жизнь этих людей, рассказать о тех, кто уже сидит, чтобы привлечь к ним внимание, и привлечь внимание к Алексею, которого тоже нельзя ни в коем случае забывать. Я начал снимать, когда он исчез на несколько недель, его переводили в колонию строгого режима в Заполярье, и никто особо не заметил этого. Меня это ужасно расстроило и напугало. А когда я закончил фильм, его убили. И это, конечно, очень изменило и сам фильм, и то, о чем он.
О чем?
Получается, что о политическом наследии. Об этих ребятах, о поколении, которое в него верило, и у которых отобрали последнее – объединяющую, значимую, практически отцовскую фигуру. Многие говорили, что как будто осиротели после убийства Навального. И я себя тоже так чувствовал. Как будто вместе с Алексеем убили надежду. Это было такое общее чувство для многих, хотя он сидел в тюрьме, и срок у него был огромный. Но все почему-то верили, что все будет хорошо, и никаких девятнадцати лет, конечно, не будет. А после убийства мы все, да и я сам потерял эту надежду. Ты спрашиваешь про месседж. По-моему, нет никакого месседжа. Это история про трагедию, про разбитые мечты, и это тоже важно показать, показать момент, в котором мы все оказались, и зафиксировать эту трагедию. Оставить свидетельство о том, что случилось с людьми, которые хотели перемен и что-то для этого делали.
Не обижайся, но на фоне того, что происходит с Россией на протяжении практически всей ее истории, для меня формулировка про прекрасную Россию будущего всегда звучала совершенно утопически. И меня поражало, как умные люди, прекрасно все понимающие, ее повторяют. Причем не в качестве мэма, а всерьез. Объясни мне, пожалуйста, этот феномен.
Теперь я, конечно, уже не могу это произносить всерьез. Понятно, что это просто некий общественно-политический феномен, который остался в прошлом. Это теперь история. Мне кажется, даже ФБК уже об этом не говорит. На самом деле, после начала полномасштабного вторжения России в Украину я перестал ее повторять, я не вижу уже никакого прекрасного будущего у этой страны. И не увижу. Его просто нет. Но до войны мне было важно, что есть такая мечта. Когда находишься внутри бесконечного ужаса, важно верить, что ему как-то еще можно сопротивляться. В последние десятилетия как журналист я находился в постоянном противостоянии с властью. Я пытался остановить эту катастрофу своими очень скромными силами. Алексей, конечно, делал для этого намного больше, но в целом было ощущение, что ты участвуешь в борьбе. Тебе кажется, что это твой долг, ты не можешь просто сидеть и смотреть, как этот поезд несется в пропасть. Есть люди, которые могут на это смотреть совершенно равнодушно, и это 99, ну или 95 процентов населения. А есть те, у кого есть какой-то темперамент гражданский, который не позволяет успокоиться. Журналисты, которые работали в независимых медиа, конечно, обладают этим темпераментом, я себя к ним отношу. И Алексей правильно придумал эту мечту про прекрасную Россию будущую, потому что она нам помогала не впадать в отчаяние. Понятно, что это была такая полушутливая формула, полумэм даже. И Алексей говорил это чуть-чуть иронично. Но это была вера. Пусть абсурдная, но она помогала продолжать жить внутри этого противостояния. Когда случилась война, я понял, что этого не будет никогда.
Почему?
Потому что запущен какой-то адский механизм насилия и саморазрушения, из которого выйти благополучно, как будто бы ничего не было, и не заплатить за это страшную цену, уже будет невозможно. Так что да, сейчас говорить о прекрасной России будущего смешно и неуместно. Но Алексей давал не только мечту, но и надежду. Надежду, что злу можно сопротивляться и что он его переживет. Ведь он не умер от отравления, он как будто воскрес чудесным образом, как какой-то супергерой. Казалось, что зло не может его убить. Он так себя и чувствовал, мне кажется. Он их вообще не боялся, это было великолепно, это был очень красивый бой. Конечно, это был бой Давида и Голиафа, и этот Голиаф выглядел жалко и ничтожно всегда рядом с Навальным. Но против лома нет приема. И они его убили.
И что же теперь делать всем, кто все-таки верил? Что ты будешь делать?
Когда все закончилось, ты должен просто с этим попрощаться. Это всегда очень болезненно. Но все в какой-то момент умирает, в том числе и мечта, и надежда. С этим очень больно расставаться, потому что нужно найти себе новую мечту, новую надежду, новую цель. Это сложно, особенно для людей, которые посвятили этому довольно много сил и времени. Но больше нет смысла с этим жить, потому что мы уже ничего не можем сделать, никак не можем приблизить какую-то новую Россию. Все, что мы можем, просто заниматься своим делом и начинать уже жить в тех других странах, куда мы уехали. Герои фильма "Возраст несогласия. 2024" почти все уехали и пока себя не могут найти. То, чем они жили, больше не работает и при этом не дает им двигаться вперед. Все. Убийство Алексея поставило точку в этой истории. Да, существует ФБК, они рассказывают, что будут бороться до последнего. Это хорошо, пусть существует оппозиция. Но если ты хочешь строить свою новую жизнь и двигаться дальше, ты должен с этим расстаться. Мы только начинаем это понимать. Но мы пока не понимаем, что дальше и куда идти, во что верить. Да даже просто где жить. Я, например, до сих пор не знаю. Нельзя продолжать жить в этом пузыре, иначе просто просрешь свою жизнь.
Сейчас ты живешь между Тбилиси и Парижем. Почему, несмотря на то, что у тебя есть право на репатриацию, ты не выбрал Израиль?
Я никогда этого не хотел – уехать. Но раз с нами случилась эмиграция, я хочу, чтобы мой сын вырос европейцем. Почему-то мне кажется так правильно. Франция всегда мне была симпатична, хотя я никогда не учил язык. Всегда хотел начать учить, но не учил. Вот только сейчас начал. И так сложилось, что Франция дала нам вид на жительство. С Израилем мне пришлось бы пройти довольно долгий процесс, чтобы натурализоваться. Собрать документы. С этим сложно, потому что надо доказывать бабушкино еврейство, а она умерла еще до моего рождения, документов у нас практически нет. Они хранятся в архивах в Мариуполе. Получить их сейчас оттуда, как ты понимаешь, непросто и недешево. А Франция быстро дала нам вид на жительство. Его, конечно, нужно все время продлевать. Ну и Париж, конечно, очень дорогой город. Не знаю, как долго я смогу позволить себе там жить и куда ехать дальше. Это все какие-то бесконечные прыжки в неизвестность. Сначала мы уехали в Тбилиси, потому что это просто более комфортный город. Такой хаб, чтобы перейти в эмиграцию не резко, а как бы постепенно, мягкая посадка. Все-таки с Грузией у нас очень много культурных пересечений. Сейчас, может быть, какая-то часть грузин на меня обидится, но все равно это очень родной для нас народ. Для меня лично это так. И так было всегда с моего советского детства. Но с точки зрения карьеры, какого-то профессионального развития оставаться там, увы, бесперспективно. Поэтому я оказался во Франции.
И чем ты там сейчас занимаешься?
Пытаюсь установить контакты с французскими продакшнами. И это, как ты понимаешь, очень непросто. Буду пробовать найти продюсеров, которые захотят со мной работать. Пока я их не нашел.
Работать над чем? О чем ты думаешь снимать следующий фильм?
Ну, этого я тебе не скажу. (смеется) Но это, конечно же, будет история из России. Пока такая возможность есть. Окно возможностей закрывается на глазах. Но пока туда еще можно отправлять людей, договариваться с людьми, которые там остались. Это становится все сложнее делать, рискованнее для тех, кто внутри. Видно, что люди начали бояться. Страх. Эту страну съедает страх. А для документалиста это очень серьезное препятствие. Люди начинают бояться говорить, быть собой перед камерой. Они начинают думать о последствиях. И это сильно ограничивает возможности для документалиста. Но пока эта возможность есть, я считаю своим долгом снимать. И это все равно то, чем я в основном живу, то, в чем я понимаю и разбираюсь. Пока я разберусь в том, как устроена французская жизнь, чтобы придумывать сюжеты, пройдет какое-то время. Понимаешь, это все равно моя страна. Это останется навсегда. Я понимаю, что, конечно, через какое-то время мои связи с ней начнут ослабевать. Но я прожил там пятьдесят лет. С ее болью, ее проблемами, ее людьми. Это мои люди. И очень важно рассказывать Европе о том, что происходит в России, нашими глазами. Потому что они вообще ничего о ней не понимают.