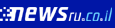Линор Горалик о новой книге, Боге и другом мнении. Интервью
В декабре минувшего года в издательстве "Новое литературное обозрение" вышла новая книга Линор Горалик "Имени такого-то" – роман об эвакуации психиатрической клиники из Москвы в ноябре 1941 года. Это вымышленная история про вымышленную психиатрическую больницу, но Горалик опирается на вполне реальную историю эвакуации московской больницы имени Кащенко – историю, которая до появления романа "Имени такого-то" была совершенно забыта, и информацию о которой трудно найти даже в архивах.
Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с писательницей об истории создания этой книги, о советской психиатрии и о последних новостях ада.
"У меня никогда не было чувства, что Бог всемогущ"
Линор, в романе "Имени такого-то" есть две темы, которые и по отдельности чудовищно тяжелые, а вместе мне кажутся просто неподъемными. Как вы решили написать книгу, где присутствуют война и безумие?
Эта история началась еще в 2003 году, когда я вела в "Гранях.Ру" колонку про малоизвестные музеи Москвы. Одним из таких музеев оказался музей при психиатрической больнице имени Алексеева (известной как больница Кащенко). Мы разговорились со смотрительницей, Раисой Викторовной Кузнецовой, которая работала в больнице во время войны, и она рассказала мне историю, которая до сих пор не гуглится. Точнее, теперь она гуглится в контексте моей книжки. Но у меня есть документы, которые подтверждают, что мне это не приснилось.
Это история об эвакуации больницы на двух баржах во время войны, осенью 1941 года, когда немцы уже подходили к Москве. В больнице очень долго ждали приказа об эвакуации, уже было известно, что делают немцы с душевнобольными, потому что к этому моменту расстреляли вторую больницу имени Алексеева под Ленинградом.
Все это было чудовищно, за гранью вообразимого. После беседы с Раисой Викторовной я начала искать какие-то документальные свидетельства. Я долго ничего не могла найти, но благодаря моей подруге Злате Понировской нам все же удалось найти один документ. Это была докладная записка человека по фамилии Харламов, который отвечал за одну из барж и на двух страницах этой докладной записки описывал процесс эвакуации. В описании присутствовала фраза "условия были нечеловеческими". В его рассказе есть все, что только можно вообразить. Вирусные заболевания, попытки самоубийства (в какой-то момент пациенты, естественно, решили, что их везут расстреливать к немцам), немыслимые бытовые условия. У них почти не было медикаментов и фактически не было продуктов, потому что они думали, что проведут в пути несколько дней, а провели две недели – сначала их не приняли в Казани, им пришлось идти до Нижнего Новгорода, где их опять не приняли, а потом уже до Рязани, где им удалось остаться.
Эта докладная записка – единственный документ, который у меня был. И все эти годы я считала, что никогда этот роман не напишу. Но при этом все время продолжала думать об этой немыслимой ситуации, всем рассказывать эту историю.
А в июне прошлого года я тяжело заболела. У меня биполярное расстройство, произошел очень плохой эпизод, я была в очень тяжелом состоянии. Но когда с помощью моего прекрасного психиатра я из этого состояния вышла, я поняла, что напишу этот роман, потому что если я его сейчас не напишу, я окончательно сойду с ума. Мой психиатр говорил, что мне не надо его писать. Мои друзья просили меня его не писать. Но я чувствовала, что, если не напишу его, мне будет еще хуже. Я писала его в бешеном темпе и все это время не могла спать, не могла дышать, не могла ничего, но я его написала. И сразу после этого мне стало гораздо легче. Это сработало. Вот такая терапевтическая история.
Вы рассказывали, что докладная записка Харламова пропала. Она так и осталась только у вас в памяти?
После ее пропажи я даже была какое-то время уверена, что она мне приснилась. У меня же в руках была просто отксеренная копия из архива, в электронном виде тогда ничего не было. И когда я решила все же писать роман, мне вызвался помочь прекрасный архивист и историк Николай Ермилов. Оказалось, что с 2003 года все изменилось, все архивы стали гораздо более закрытыми, нужно подавать туда заявки и так далее. Мы стали писать в архивы Москвы, Казани, Рязани, Нижнего Новгорода, но все безрезультатно.
За это время я уже дописала книгу и сдала ее в издательство, но продолжала поиски записки. И буквально за день до презентации романа на книжной ярмарке Non/fiction мы получили письмо о том, что записка нашлась.
Я открываю конверт и не верю своим глазам. Это докладная записка. С баржи. Только со второй. Эвакуация ведь шла на двух баржах, и Харламов отвечал только за одну из них. Эта вторая записка фактически повторяет первую, только написана в более сдержанной манере. Там тоже про отсутствие продуктов и медикаментов, про героизм медиков, про страхи пациентов.
Там, например, я увидела то, о чем догадалась сама – что сортиры были прямо в трюме, где располагались люди.
А способ делать унитазы из стульев вы тоже сами придумали?
Про стулья придумал или вспомнил мой папа. Он по образованию не просто врач, а санэпидемэксперт. Он очень помог мне со всем, что было связано в книге с медчастью, с санитарными условиями и так далее.
Первая записка так и не нашлась?
Нет.
Читая книгу, я часто ловила себя на мысли о том, что не понимаю, кто передо мной – пациент или врач. В книге иногда кажется, что все одинаково безумны или одинаково нормальны.
Думаю, так оно и было. В ноябре 1941 года ситуация в Москве была настолько безумна, что не могло быть человека, в той или иной степени не находящегося в травме.
Тем не менее, хоть действие и происходит в психиатрической клинике, вы не только не педалируете тему безумия в медицинском смысле этого слова, но и вообще ее практически не затрагиваете. Безумно все, но безумных нет.
Для меня этически было очень важно не эксплуатировать болезнь. Потом я поняла, что и технически важно не превратить это в "корабль дураков". Это слишком простой и слишком плохой ход. Мне противно думать, что можно было из болезни сделать инструмент. И тогда я решила двигать не поезд, а перрон. Было необходимо, чтобы поезд и перрон двигались относительно друг друга, чтобы сознание и реальность были сдвинуты, и тогда я начала двигать реальность и менять устройство самого окружающего мира – от зданий до механизмов. И за счет этого я пыталась создать ощущение того, что реальность безумна, а действуют все абсолютно рационально, включая пациентов.
Про ваш предыдущий роман "Все, способные дышать дыхание", где заговорили животные, вы сказали, что это роман об эмпатии – потому что нельзя игнорировать страдания тех, у кого есть речь. В романе "Имени такого-то" у вас уже живые здания и механизмы, они умеют чувствовать страх и боль. И эмпатия не может не распространяться и на них тоже. Получается, что у вас все про это?
Нет. Это роман, наверное, про то, что Бог есть. Я же верующая. И для меня роман именно про это.
Но вы описываете в книге совершенно чудовищные события.
Я, как, думаю, многие верующие, постоянно пытаюсь понять, как совместима вера в Бога и Холокост. У меня никогда не было чувства, что Бог всемогущ. Это очень важно для меня. И лично для себя у меня есть ответ на то, что делал Бог во время Холокоста. Он спасал, кого мог. Я не уверена, что могу этот ответ объяснить, но я в него твердо верю. Я думаю, что и во время этой моей истории он спасал, кого мог, и кого смог – спас.
Вы пишете и про тех, кого не спасли. Короткий эпизод про больницу в вымышленном Воронежске – это же не плод вашего воображения.
Нет, это реальная история. Нацисты морили больных голодом и требовали от врачей, чтобы те лучше убивали пациентов. Я все это читала, когда писала роман, и не могла рассказать об этом даже своему терапевту. Одно дело – описать это в романе. Человек может отмахнуться и сказать, что это же книжка и всего этого не было. А сделать с живым человеком то, что это чтение делало со мной… Вот сейчас я уже научилась об этом говорить, но пока писала – не могла.
Я ведь правда никогда в жизни не была так одержима ни одним текстом. Я никогда так не хотела написать текст. Никогда так им не мучилась.
А теперь я даже могу говорить о том, что это, конечно же, роман о Холокосте. Просто о той его части, о которой мы меньше говорим – о Холокосте душевнобольных. Они же убегают от Холокоста.
Как появилась в романе линия про электрошокер? Разве они уже были в советских больницах в 1941 году?
Электросудорожную терапию в том виде, в котором мы ее знаем, начали использовать на западе только в 1934 году, если я все правильно понимаю. Я сама не представляла, что такое может быть. Но когда я спросила хранительницу музея, как они продержались, она рассказала мне, что в клинике был врач, который сам своими руками собрал электрошокер. В книге у меня его фамилия Синайский, а в реальности он был чуть ли не Иерусалимский. И моя собеседница сказала мне, что профессор Иерусалимский собрал электрошокер, на котором они и продержались до 1946 года. Его ведь наверняка тогда можно было сделать только по немецким чертежам, это передовая линия науки. Меня это потрясло.
Я вообще в процессе работы над книгой прочла несколько книг по истории советской психиатрии. Не карательной, этой темы я не касалась. Советская психиатрия была не такая, как западная, с другими установками, но она была заинтересована в помощи пациентам.
А чем советская психиатрия, как медицина, отличалась от западной?
Главное различие было в постановке задачи (опять же, если я все поняла правильно, – я не специалист!). Если западная медицина, в том числе психиатрия, делала ставку, по крайней мере, с середины 50-х годов, на качество жизни пациента, то советская медицина – на возвращение пациента в коллектив.
Но это огромное, базовое различие.
Системообразующее. Из этого вытекало все – от того, какие пациентам давались препараты, и до того, как выстраивался процесс реабилитации.
"Мне как автору важно донести, что мой взгляд не является единственным"
Вы перечитываете свои книги?
Нет. Я их сразу забываю и больше не перечитываю. И очень этому рада. Проблема возникла только с "Венисаной". Я еще как-то помнила первые две, когда писала третью, но сейчас, когда писала четвертую, мне пришлось перечитать первые три, и это было ужасно, просто мучительно, мне казалось, что все надо было делать иначе.
Вы сейчас пишете "Венисану"?
Дописываю уже последнюю главу.
А что потом? У вас недавно была выставка про костюмы жителей ада. Что-то новое в аду происходит? В Тухачевске? С Петровскими?
Выставка с миром Тухачевска никак связана не была, это отдельная история. Это было подражание этнографическим выставкам. Про то, как люди в аду каждый день справляются с одеждой.
Выставка называлась "Повседневный и парадный костюм обитателей Ада" и была устроена так, как могла быть устроена выставка "Повседневный и парадный костюм Рязанской области".
Но почему снова ад?
Меня вообще интересует повседневное существование в экстремальных ситуациях. Поэтому меня так интересовал вымышленный "асон" во "Всех, способных дышать дыхание" или эвакуация психиатрической больницы во время войны в "Имени такого-то".
А тут просто сомкнулись мои занятия теорией моды и мой интерес к теме выживания в экстремальных обстоятельствах.
Ведь где есть люди – есть одежда. И с ней надо как-то справляться. И я попыталась в 82-х экспонатах рассказать, как, на мой взгляд, люди могли бы справляться с одеждой в аду. Тем более, что допущением было то, что в ад попадают только те вещи, которых человек касается в момент смерти, и это все сильно усложняет. Чтобы получить новую одежду, им нужно ее выпрашивать, или переделывать, или обмениваться. То есть, вступать в постоянные социальные взаимодействия.
Что касается Тухачевска, то пока там ничего нового не происходит. Сейчас я заканчиваю "Венисану", после этого заканчиваю последнее эссе для книги по теории моды, которую сдаю в "НЛО". После этого я дописываю детскую книжку про СССР, а вот после нее у меня есть два пути. Или я пишу роман "Муса" про слона, который идет по России в подарок русскому царю, либо все же пишу роман о Бумажной церкви города Тухачевска.
Мне кажется, вы уже давно говорите про роман про слона. И даже рассказывали, что начинали его писать.
Для меня нормально носиться с книгами много лет, прежде чем сесть их писать, но рано или поздно я их донашиваю и делаю, по большей части.
Роман про слона – это роман, в котором слон идет в подарок от некоего восточного правителя к русскому царю. Он идет по такой очень условной России, в которой нет времени, зато есть очень много пространства, – в ней может сосуществовать одновременно Сталинградская битва и крепостные, визит Никсона и сфальсифицированные выборы путинской эпохи. Но слон считает это все нормой. Он не понимает, что это разные времена, для него это просто такая страна.
Повествование в романе ведется от первого лица слона, и я надеюсь, что книга, среди прочего, будет смешной.
Я действительно начинала писать этот роман уже четыре раза и в общей сумме выкинула миллион знаков текста. И я готова к пятой попытке. Так что рано или поздно я его напишу, если Господь даст сил.
Но пока мне важно сдать книгу в "НЛО" и дописать про СССР.
Расскажите о книге про СССР.
Это детский нон-фикшн, который так и называется – "Про СССР". В нем 25 глав, и каждая глава посвящена какому-нибудь советскому феномену. Книга начинается с глав, которые называются "Про партию", "Про свободу", "Про народы", "Про веру". Дальше идут главы "Про любовь и семью", "Про жилье" и так далее. Там есть, естественно, главы про школу, про октябрят и пионеров. Смысл в том, чтобы рассказать детям про очень поздний СССР, 75-89 годы – про ту страну, в которой жили окружающие их взрослые.
У каждой главы книги есть своя структура. Это небольшое повествование на четыре-пять абзацев и маленькие подглавочки – "Слова", "Фразы", "А когда?..", "А почему?..", и, главное, – "Другое мнение". В этом последнем, очень важном, кусочке каждой главы, я излагаю мнение, не совпадающее с мнением автора. Обычно это мнение людей, которым СССР до сих пор нравится. Я рассказываю, почему он им нравится и почему они хотели бы, чтобы в нашей жизни были восстановлены какие-то явления советского периода.
Книжка так или иначе пытается показать два взгляда на эту ушедшую страну. Один – мой, а другой – людей, которые относятся к СССР фактически противоположно.
Мне как автору важно донести, что мой взгляд не является единственным и системообразующим.